Те, кто выдает себя за благотворителей, в действительности служа своему кошельку, довольно быстро проявляют характерные черты, которые полезно знать
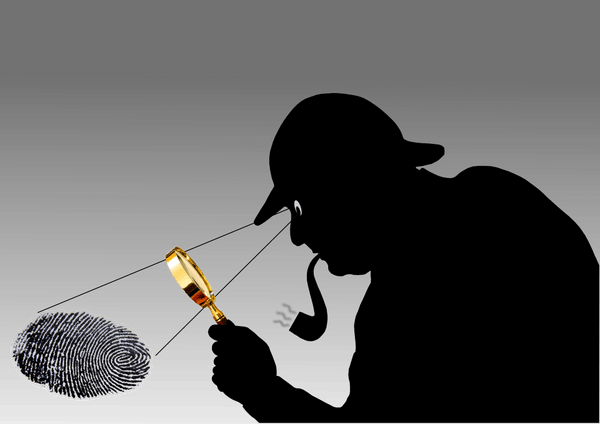
Статья Владимира Берхина на Филантропе.
Уважаемые читатели, вначале придется прочитать занудное вступление. Не переживайте, оно не очень длинное.
Я видел с десяток инструкций о том, как выявить мошенника в благотворительной среде, а некоторые из них даже писал. Несколько реже мне попадались предостережения о том, как избегнуть попадания в сети «токсичной благотворительности», способной повредить уже не материальному благополучию, а душе человека.

Предлагаемый текст — небольшое дополнение к этим инструкциям. Те, кто выдает себя за благотворителей, в действительности служа не подопечным, а своему эго либо своему кошельку, довольно быстро в поведении проявляют характерные черты, которые полезно знать. Сами по себе они могут порою ничего и не значить, но в любом случае служат «красной лампочкой», предупреждающей: здесь что-то не так. Если вы видите, что представитель благотворительного фонда ведёт себя так, как описано ниже, — это повод задуматься, соответствует ли предлагаемый товар этикетке.
Потому что все эти особенности поведения имеют своей целью исключение критики и проявляются как ответ на неё. Иногда это просто уловки для успокоения публики, иногда — настоящая психическая деформация, когда человек верит в то, что говорит. В любом случае эти уловки — способ защититься от неприятных вопросов, исключить саму возможность ответить на них.
Для этого дискредитируется либо человек, задающий вопрос, либо сама возможность его задать. Между вопросом и ответом ставится стена, делающая его либо бессмысленным, либо оскорбительным для публики. Тем самым критика уничтожается без рассмотрения по сути.

Полезно помнить, что в патопсихологии некритичность к себе рассматривается как серьёзный признак расстройства мышления. И в любом случае если кто-то берет чужие деньги, обещая потратить их на добрые дела, но принципиально уходит от ответов на вопросы, — значит, что-то не в порядке.
Признак первый. «У нас всё в рамках закона».
В этом случае за высший, последний и главный критерий правильности поведения выдается государственный закон. Помимо очевидной неприменимости в качестве нравственного мерила, закон — такова уж реальная жизнь — даже будучи соблюден, совершенно никак не гарантирует подлинной честности. Вот тут я писал об этом подробнее. Однако закон в глазах публики есть нечто серьёзное и важное, а юридически грамотные люди в России встречаются не особенно часто, и потому ссылка на законность действий в некоторых случаях позволяет избежать критики. Дескать, если у прокурора вопросов нет, то и у жертвователя их не должно возникать. Это именно уловка, ибо даже настоящий мошенник может комфортно вполне устроиться там, куда не дотянулись формулировки уголовного кодекса. Толпы лжеволонтёров с прозрачными ящичками на улицах, с которыми именем закона ничего не получается сделать, — живое тому подтверждение.
Признак второй. «Наши цели слишком благородны, чтобы подвергать сомнению наши методы ».
Этот выверт сознания пришёл напрямую из «токсичной благотворительности». Именно там на слишком острые вопросы принято отвечать — «МЫ ЖЕ СПАСАЕМ ЖИЗНЬ РЕБЁНКА», а самого вопрошающего забрасывать обвинениями вместо ответов. Логика рассуждений понятна: благотворители ставят себя на недоступно высокое место, куда невозможно дотянуться менее общественно-полезным людям. Иногда используются (как правило, не самим оператором процесса, а его группой поддержки) рассказы о личной святости благотворителя, но суть от этого не меняется. Вопросы остаются без ответов, а методы — без изменений.
Признак третий. «А ты кто такой» или, как его еще называют в сети, «сперва добейся».

Это обратная сторона предыдущего пункта. С той лишь разницей, что не благотворитель ставится на занебесную высоту, а вопрошающий опускается ниже плинтуса, что лишает его права задавать вопросы. Причины могут быть названы разные, от недостаточных заслуг перед благотворительным сектором до дружбы не с теми людьми, но суть сводится опять-таки к тому, чтобы не отвечать на вопросы. В благотворительной сфере этот пункт также зачастую выглядит как «стрельба из-за женщины», выставление на передний план подопечных, которым, якобы, в результате чьих-то критических отзывов станут меньше помогать — как будто проблема не в деятельности, а исключительно в критике.
Признак четвёртый. «Государство на нашей стороне» или «мы заодно с государством».
Этот признак может проявляться не только в полемике, но и, например, в стилистике НКО. Портрет Президента на сайте, орлы и триколор на логотипе, подробное перечисление высоких чинов, покровительствующих организации, «козыряние» связями в силовых структурах и так далее — всё вместе это зачастую служит только одной цели: дискредитировать любые сомнения в методах и целях работы. Потому что тот, кто сомневается в работе НКО, директору которого Сам руку жал, — тот косвенно и в Самом сомневается, и на государство тем самым тень бросает. Ну а от подобного предателя — может ли быть что доброе?
Впрочем, «великое дело», критика служителей которого недопустима, может быть любым. Державный пафос чаще встречается, но легко может быть заменен на «семейные ценности», «духовность», «развитие благотворительности», «борьбу против преступной власти», «информационную войну», «возрождение казачества» — вариантов бесконечно много. Главное, что все они достаточно велики и прекрасны, чтобы быть надёжной заслонкой на пути критики, превращая просто критика — в святотатца.
Конечно, сами по себе эти признаки могут ничего не значить, кроме того, что у руководства фонда профессиональная деформация и проблемы с адекватным восприятием самих себя и ценностей благотворительной работы. Однако неадекватность в самооценке неизбежно порождает неадекватность и во всем остальном, а самопревозношение оборачивается снижением этической планки. Это тревожные признаки: если люди всерьёз поверили в собственное величие (и неважно — это величие присуще им самим или делу, с которым они себя отождествили), значит, они уже начали разрешать себе то, что запретно для простых смертных. И это еще неплохой случай: из профессиональной деформации и гордыни есть обратный путь — через неудачи и порождаемое ими смирение.
А вот если описанные выше приёмы применяются сознательно, особенно первые два пункта — обратного пути уже нет. Люди намеренно скрывают нечто важное и, вероятно, не очень хорошее за ширмой добрых дел, под авторитетом закона и иллюзией личной святости.

И самое последнее. Я думаю, что всякому работнику третьего сектора по прочтении этого текста полезно было бы сесть и подумать о собственном поведении. Как я думал о своём в процессе его написания. Потому что — это я знаю на собственной шкуре — критичность снижается незаметно, и проснуться с готовым нимбом над головой и неспособностью к нормальному взаимодействию с грешным миром — один из наших постоянных профессиональных рисков.
Источник philanthropy.ru


