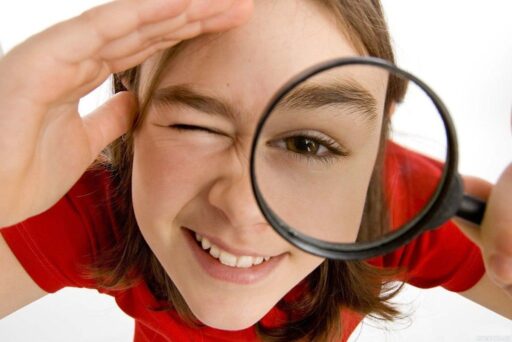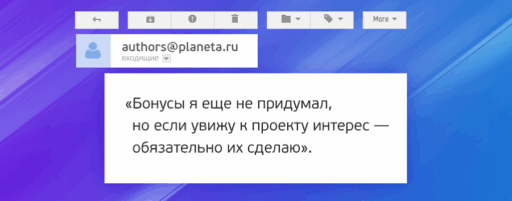С началом кризиса корпоративная благотворительность «схлопывается», тогда как личное малое доброделание, скорее, будет расширяться. Почему самыми активными жертвователями оказываются не самые богатые люди, как воцерковленность сказывается на готовности оказывать помощь ближним? Социологическими исследованиями делится Лев Ильич Якобсон, первый проректор Высшей школы экономики.
Что мы имеем в виду, говоря о благотворительности? В исследованиях, да и в жизни, в обычных разговорах, под благотворительностью понимаются разные вещи. Очень часто мы фокусируемся на том, что я называю благотворительностью большого жанра: корпоративная благотворительность, благотворительность миллиардеров. Мы в Высшей школе экономики понимаем вопрос шире, говоря, в том числе, об участии в благотворительности самых обычных граждан. Отслеживая эту тему, мы видим, что примерно половина наших граждан участвует в благотворительности, если под ней понимать денежные пожертвования незнакомым людям, включая милостыню, например, или церковную кружку. Кроме того, имеется серьезный потенциал развития такой благотворительности.
Но сначала немножко о благотворительности крупной. Она, в свою очередь, условно делится на две категории. Одно дело − благотворительность корпоративная, которая хотя осуществляется из лучших побуждений, но при этом всегда имеет составляющую, я бы сказал, рекламы, формирования бренда, укрепления позиции на рынке. Другое дело − благотворительность личная. Это бывают очень большие суммы, но в таких случаях даритель, как правило, не очень-то широко освещает свою благотворительную деятельность, он может даже оставаться анонимным.
Я предлагаю различать эти категории, и вот почему. В очень непростой ситуации, в которой мы сейчас оказываемся, у этих явлений, по-видимому, − разная судьба. На самом деле, мы сегодня не знаем, какой будет судьба благотворительности в начавшийся период серьезных экономических трудностей в России, и я могу лишь высказывать некоторые соображения. Благотворительность корпоративная, брендовая, боюсь, в нынешних условиях будет сдавать свои позиции. Крупная личная благотворительность, наверно, устоит, потому что здесь действуют все-таки не рыночные стимулы, но и ее объемы могут уменьшаться. А вот что касается малой благотворительности, здесь, как я уже сказал, есть серьезные резервы, до сих пор недоиспользованные.
Давайте посмотрим, из чего складывается эта малая благотворительность, кто на что жертвует. Как правило, люди жертвуют очень немного. Мы опрашивали людей, кто пожертвовал, например, в течение предыдущего года (не однократно, а за несколько раз) 2000 рублей и больше, – таких только четверть. В основном люди-то небогатые и дают понемножку, но их много. Относительно чаще других жертвуют люди среднего возраста, что, в общем, объяснимо: у пенсионеров совсем мало денег, а молодежь еще не совсем повернулась к благотворительности. Образованные люди жертвуют несколько реже необразованных. Что любопытно: при том, что различие в частоте пожертвований не очень-то зависит от размеров дохода семьи, все-таки лидерами являются не самые состоятельные. Понятное дело, что в массовых опросах самые состоятельные вообще никогда в выборку не попадают. Но те, кто в выборке более зарабатывающие, – вовсе не лидеры по пожертвованиям.
А как выглядит ситуация с благотворительностью в зависимости от конфессиональной принадлежности, от воцерковленности? Вполне ожидаемая картина. Люди, относящие себя к той или иной конфессии, участвуют в такой низовой, повседневной благотворительности заметно больше, чем те, которые не считают себя верующими людьми. А вот если говорить о различиях между религиями, то лидерами являются мусульмане, затем следуют православные − с небольшим отрывом, но все-таки они жертвуют меньше. И с точки зрения воцерковленности очень заметно различие между теми, кто регулярно посещает храм, и теми, кто посещает храм изредка. Варианты при опросе были такие: примерно раз в неделю, примерно раз в месяц, четыре-шесть раз в год, один-три раза в год, практически никогда. И по этим пунктам наблюдается монотонное снижение активности пожертвований. Таким образом, принадлежность не только к конфессии, но и к религиозной организации − реальная принадлежность − напрямую связана с интенсивностью участия в низовой благотворительности.
Разумеется, стоит задуматься, от чего действительно зависит большее вовлечение людей в такого рода активность? Как мне кажется (это вытекает из того, что мы анализируем), резервы здесь велики. Дело все в том, что вот такая малая благотворительность у нас в огромной мере не институционализирована. А не институционализирована она по двум взаимосвязанным причинам: люди в массе своей не доверяют организациям, позиционирующимся в качестве благотворительных (здесь религиозные организации, кстати, составляют исключение), а если доверяют, то, как правило, таким, чей образ напрямую связан с образами известных и вызывающих доверие людей. Это доверие человеку, а не организации. Например, Чулпан Хаматова – очень известный и показательный пример.
Там, где не хватает доверия организациям (и надо прямо сказать, для недоверия зачастую есть основания), усилия благотворителей [приносят малый результат].
То, что я говорил, относится к денежным пожертвованиям. На самом деле, есть и другая сторона благотворительности, на которой недоверие к благотворительным организациям и слабое институционализирование сказывается еще сильнее, – это добровольческий труд. Совместную деятельность кто-то должен организовывать. «Вот я бы участвовал, но не доверяю тем, кто меня призывает», – довольно типичная реакция.
Соответственно, очень многое зависит от того, чтобы на деле, а не на словах укреплять доверие к различного рода общественным структурам и некоммерческим организациям.
Больше всего, конечно, это зависит от самих организаций, от их умения, их желания нормально работать. Обращаясь к людям за помощью, надо не исходить из посыла: «Ну, вот ради крупного пожертвования, еще постараемся и куда-то пойдем, поищем. А вот что там связываться с мелочами?» Это довольно типично для многих НКО и бывает, между прочим, даже в церковных организациях.
Для многих благотворительных и некоммерческих организаций типично незнание элементарных приемов, условий, методов сбора средств.
Кроме того, хотел бы поднять вопрос о государственных грантах некоммерческим организациям с целью решения разного рода социальных задач. Здесь я тоже вынужден, не рассказывая подробно, анонсировать одну работу, которую мы сделали в последний год. Она посвящена анализу проводимых сейчас государственными учреждениями грантовых конкурсов. Это не только так называемые президентские гранты − конкурсы проводят Минэкономики, Минтруд и другие; их довольно много на самом деле. С 2010 по 2014 год сумма государственных средств, которые направляются на поддержку социально ориентированных программ, возросла с 4 млрд. до более чем до 10 млрд. рублей.
Как мы видим, эти программы очень разностильны, очень разнородны. В структуре большинства из них заметна недостаточная ориентация на результаты − это просто раздача средств людям и проектам, вызывающим по тем или иным причинам симпатию. Вообще, надо прямо говорить, у нас бюджетные средства во всех сферах используются не очень-то эффективно. Но вот такого отсутствия даже попытки институционально обустроить достижение результатов, как в этих конкурсах разного рода (некоторые из них получше, некоторые − похуже), я ни в одной сфере бюджетной политики не встречал.
Мы предложили некую методику оценки не самих грантов, а программ распределения (потому что есть не только федеральные, но и региональные программы). Методика довольно сложная, я ее сейчас излагать не буду, да это и не предмет нашего сегодняшнего обсуждения, но должен отметить, что в этой области имеется огромный резерв. Государственные средства на поддержку социально ориентированных НКО могли бы распределяться гораздо разумнее, и способы их распределения, в свою очередь, могли бы задавать какие-то образцы для тех грантовых программ, которые проводят благотворители.
Подготовлено редакцией портала «Приходы» по итогам круглого стола «Благотворительность и меценатство в современной России. Практика. Опыт. Пути развития», прошедшего 23 января 2015 года в Храме Христа Спасителя в рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений.